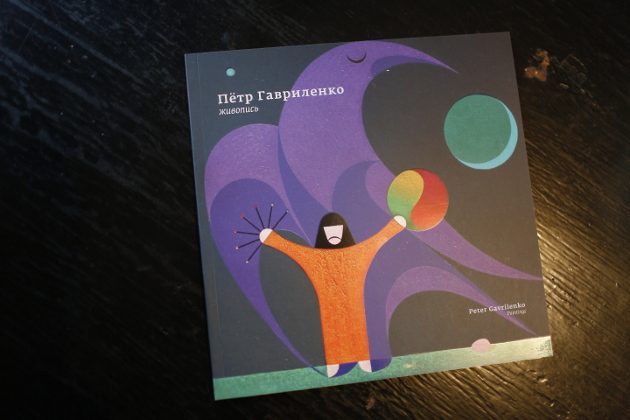Первого июня любимица публики народная артистка России Валентина Бекетова принимала поздравления с юбилеем. В редакции «ТН» каждый второй – заядлый театрал. Мы не смогли остаться в стороне от этого события. В беседе по душам незадолго до своего дня рождения ведущая актриса томской драмы рассказала о цене актерской дружбы, о запретных темах с молодыми коллегами и о том, почему новоиспеченный знакомый принял ее за агента КГБ.
Радость, которая не всегда с тобой
– Валентина Алексеевна, вы всегда отмечаете не только юбилеи, но и рядовые дни рождения. Вы не из тех, кто комплексует по поводу возраста и старается в свой праздник скрыться от всех?
– Точно не из таких! Я совершенно не понимаю, когда люди из суеверий отказываются отмечать, например, сорокалетие. Нужно быть благодарным Вселенной за каждый прожитый год и обязательно праздновать дни рождения. Я отмечаю целую неделю, в разных местах: узким кругом дома, в театре, в университете, в двух разных не очень сочетающихся друг с другом компаниях. Любой праздник и встреча с любимыми людьми дарят позитив, радость, ощущение полноты жизни. Зачем же лишать себя этого? И потом, нужно пользоваться случаем и говорить друг другу хорошие слова – они материальны.
– На всех фуршетах вы обязательно предлагаете тост за нечаянную радость. Какая главная нечаянная радость случилась в вашей жизни?
– Это не какой-то один конкретный случай, а целый комплекс счастливых случайностей. Все так удачно совпало и сложилось в жизни, что я оказалась именно в том месте, где могу принести больше всего пользы и радости. Имею в виду сейчас театр вообще и томскую драму в частности. Это действительно радость, которая не каждому выпадает в жизни. И действительно нечаянная – в юности не можешь знать наверняка, что ты сделал правильный выбор.
Не могу похвастаться, что жизнь часто балует нечаянными радостями. Я научилась находить маленькие поводы для счастья в буднях. В Университетской роще, например, есть кедрик, который я называю своим, хотя его не сажала. Несколько лет назад обратила на него внимание: «Надо же, как он прилепился к старой липе! Липа вообще-то капризная, соседства не терпит, но это деревце приняла». Теперь я наблюдаю, как кедр растет, хорошеет, выпускает свечки. Каждая встреча с ним для меня – нечаянная радость.
– Вы предпочитаете выражение «служить в театре» или «работать в театре»?
– Мне вообще не очень нравится слово «работа». Оно подразумевает преодоление препятствий, некую ломку себя. Артист, если честно относится к своему делу, может только служить. Для моего поколения актеров это было нормой, нас так педагоги воспитывали. Сегодня, к сожалению, понятие «служить искусству» уходит.
Багаж пролетает мимо
– Что вы считаете своим самым значительным достижением в профессии?
– Услышав такой вопрос, сразу хочется возмутиться: «А разве уже пора ставить точку и никаких достижений впереди больше не будет?» (улыбается). Могу сказать, что стало большой удачей в моей жизни. Это появление в ней Литературно-художественного театра (ЛХТ). Были периоды, когда я подолгу ждала новых работ. Я и сейчас третий сезон сижу без дела – сыграла всего две роли в спектаклях «Амели» и «Анна в тропиках». Практически все артисты проходят через такое затишье, и это не самый легкий период в нашей жизни. Если для кого-то чем меньше работы, тем лучше, то для нас, актеров, ее отсутствие может стать трагедией. Не каждому удается достойно перетерпеть этот временный период невостребованности. Меня в минуты отчаяния спасал ЛХТ. Здесь я чувствовала себя нужной. А сколько ролей я переиграла со своими ребятами, сколько пьес разобрала, сколько режиссерских ходов придумала! Этот опыт помогал мне потом в работе над своими ролями.
Не люблю говорить про роли, о которых мечтаю. Имела неосторожность в одном интервью ляпнуть о том, что в молодости хотела сыграть Нину Заречную в «Чайке». Так теперь меня эта птица настигает едва ли не в каждой беседе с журналистами.
– Вы всегда подчеркиваете, что у ЛХТ нет цели воспитать актеров. Но бывают случаи, когда студийцы делают финт и поступают в театральные вузы…
– Это больные люди, такие же, как и я. Их надо пожалеть. Я стараюсь отговорить ребят от такого шага, честно рассказываю им про все негативные стороны актерской профессии. Не каждый человек выдержит, когда топчутся по его самолюбию. Это неизбежно происходит в процессе творческого поиска. Нужно иметь очень сильный характер, чтобы не сломаться. Я уже не говорю про то, что актеры получают три копейки. А у парней в перспективе семья, они должны будут содержать ее.
Но если человек, несмотря на все мои уговоры, все-таки решает поступать в театральный, значит, так и должно быть. Возможно, им движет не самолюбие и амбиции, а настоящая любовь к театру. Тогда нужно дерзать.
Я в шутку называю себя бациллоносителем. Если я прочла какую-то книгу, посмотрела фильм или спектакль, которые сильно впечатлили, не могу удержаться. Мне обязательно нужно кому-нибудь о них рассказать, обсудить, поделиться своими мыслями и ощущениями. В большинстве случаев я заражаю народ, и они тоже берут в руки эту книгу, скачивают фильм, идут на спектакль.
– Сильно ли отличаются сегодняшние студийцы от тех студентов, которые приходили в Литературно-художественный театр 10–20 лет назад?
– Они совершенно другие. Не хуже, просто другие. В первых поколениях студийцев почти все были отличниками. При этом я редко слышала, чтобы они обсуждали учебу. Кто-то мог обмолвиться, что ему нужно сдать какой-то зачет, не более того. Они активно интересовались тем, что происходит вокруг. Отслеживали литературные новинки и тащили в ЛХТ произведения, по которым им хотелось сделать спектакль.
Сегодня многое поменялось. Раньше костяк театра составляли филологи, сейчас это журналисты, физики, геологи. Современные ребята нацелены на карьеру. Многие в театре надолго не задерживаются, потому что уже с первых курсов начинают работать. И очень мало читают. Еще меньше ходят в театры и смотрят отечественные фильмы, ставшие классикой советского кинематографа. Культурный багаж в прежние времена был само собой разумеющимся, сейчас он просто пролетает мимо. Я поначалу с непривычки приходила в ужас, когда в разговоре с ними приводила какую-нибудь известную цитату, и выяснялось, что они ее не знают. Потом стала избегать таких провокаций. А недавно опять упомянула какой-то известный литературный факт, спохватилась: «Вы, наверное, этого не знаете». Так они на меня даже обиделись: «Почему это не знаем? Очень даже знаем!» Тоже нечаянная радость (улыбается).
Не могу не сделать ребятам комплимент – они очень интересно мыслят в тех сферах, которые им понятны. Я сама многому у них учусь. И не понимаю сетований некоторых представителей взрослого поколения о том, что «молодежь нынче не та». Просто мы иногда за ними не успеваем, нужно отдавать себе в этом отчет. И если что-то в современной жизни не вяжется с нашими о ней представлениями, то вовсе не значит, что это плохо и неправильно.
Когда атмосферный столб давит
– Вас не смущает засилье комедий не всегда хорошего качества в репертуаре многих театров?
– Сразу вспоминается выражение Остапа Бендера: «Атмосферный столб давит». В актерской профессии есть такое понятие, как «предлагаемые обстоятельства» – то, что диктует поведение персонажа. Поведение театра диктует жизнь. В последнее время она стала сильно уплотняться: люди стремятся переделать как можно больше дел, везде успеть. От этой бесконечной гонки они элементарно устают. Сегодня зрители не хотят думать и переживать в театре, они хотят отдохнуть и расслабиться. И театр им такую возможность предоставляет. Параллельно реализует свой интерес – на него ведь тоже атмосферный столб давит. Реальность такова, что театр должен как-то выживать. Охотнее всего зрители берут билеты на комедии. Другое дело, что нельзя снижать планку, спектакли должны быть достойного художественного уровня. Независимо от их жанра.
– Как вы относитесь к экспериментам на сцене и современным трактовкам произведений, ставших классикой?
– Эксперимент всегда допустим. Недопустимо, когда он плохого качества и мало имеет отношения к тому, о чем писал автор. Хорошо, если зритель до похода в театр прочел пьесу. Тогда он понимает границы этого самого эксперимента. Хуже, когда неподготовленный зритель принимает взгляд режиссера за суть произведения, якобы вложенную в него автором.
Например, большой резонанс в городе вызвали спектакли Александра Огарева (бывший главный режиссер Томского областного театра драмы. – Прим. ред.), они стали экспериментом для театрального Томска. Не могу сказать, что я как зритель приняла все его спектакли. Но мне было любопытно понять новые веяния, которые привносит в театр такая режиссура. Для нашего города это действительно непривычный творческий формат. Спектакли Александра Анатольевича многослойные, в их визуальном ряде заложено много культурных пластов. Они в меньшей степени затрагивают чувства, зато заставляют шевелить мозгами. Получается, что весь спектакль ты разгадываешь ребусы. Наш зритель к этому не привык, ему нужен катарсис. Но мне искренне жаль, что Александр Анатольевич уехал из Томска. Потому что наряду с привычным всем нам театром должен быть и другой, предлагающий совсем иной способ существования артистов на сцене и восприятия постановок.
– Как реагируют незнакомые люди, когда узнают, что вы актриса?
– Никогда не любила рассказывать о том, где я работаю. И сейчас не люблю. Анекдотичный случай произошел однажды на отдыхе. Партнер по игре в бадминтон упорно допытывался, кто я по профессии. Долго отшучивалась, чтобы не отвечать, потом не выдержала: «Слушай, ну какая тебе разница? Когда люди узнают, где я работаю, начинают ко мне относиться или лучше, чем заслуживаю, или хуже, чем нужно». Он растерялся, помолчал с минуту, потом выдал: «В КГБ, что ли?»
– Сегодняшние молодые артисты похожи на ваше поколение, когда вы делали первые шаги в профессии?
– В чем-то похожи, в чем-то – не очень. Многие из них оканчивали театральные вузы заочно, что неизбежно сужает кругозор. Зато они лучше нас двигаются и танцуют, а это одно из самых ярких выразительных средств в актерском арсенале.
Сильнее всего меня печалит, когда у молодых артистов от любого, даже самого маленького успеха просыпается мания величия. Им начинает казаться, что они асы на сцене. У нашего поколения было четкое понимание: актер учится профессии всю жизнь. В том числе у старших коллег. Должна признаться, что я даже своим бывшим студентам не всегда осмелюсь сделать замечание, что-то подсказать. Я убеждена: если человеку нужен совет, он сам к тебе за ним обратится. Будучи начинающей актрисой, я подходила к Тамаре Лебедевой, Людмиле Долматовой, чтобы спросить их мнение о моей работе в премьерном спектакле. Это было нормой. Сегодня, если скажешь ребятам, что они делают что-то неправильно, рискуешь стать для них злодеем. Молодежь воспринимает твои слова, только когда гладишь их по шерсти. А чтобы из артиста что-то получилось, нужно и против шерсти иногда.
– Что можете сказать о молодежи томской драмы?
– Ситуация с молодыми артистами в нашем театре неблагополучная. В последние годы никто не занимался формированием труппы. В итоге самому молодому артисту 30 лет. Это катастрофа. Да, наши девушки хорошо выглядят и могут играть юных героинь. Но это не выход. Не должно быть в театре таких возрастных ям. А взяться молодежи неоткуда. Заманить их в Томск нечем: квартиру театр дать не может, зарплата маленькая. Иногда артисты приезжают в конкретный театр вслед за ярким творческим лидером. Но я таких случаев давно не припомню.
Я мечтаю, сидя в зрительном зале своего театра, искренне заплакать. Или засмеяться. Испытать то, что называют сопереживанием происходящему на сцене. Последний раз такое случалось на спектакле Феликса Григорьяна «Золотой слон». Тогда я вместе со всем зрительным залом хохотала до слез. Настолько это было смешно, остроумно, созвучно тогдашнему времени.
«В мужских штанах не была, не знаю»
– К разговору о провинциальных театрах… Слышали отзыв одного из выпускников курса Льва Додина, десантированных в Томск? Он вспоминал этот период далеко не как самый прекрасный в своей жизни. И город маленький, и поселили их не в том доме, и на улицах грязь… Актер должен стремиться на Олимп, чтобы состояться в профессии?
– Актер должен стремиться быть человеком. Мне негативные отзывы от тех ребят не встречались. Но если они действительно имели место быть, то для меня это странно слышать. Как можно в молодости так воспринимать жизнь? Я после переезда из Новосибирска жила с мужем и маленькой дочкой в двухэтажном деревянном доме в переулке Пионерском. Но нас это обстоятельство не смущало и существование не отравляло. Ведь вокруг было столько интересного! Новый город, новые люди, первые шаги в любимой профессии. Я иногда говорю своим ребятам из ЛХТ: «Вы почему такие скучные?» Они правильно питаются, пьют только воду, потому что чай или кофе якобы вредны. Придерживаются еще каких-то непонятных и абсолютно ограничивающих правил. Но это же тоска зеленая! Нужно узнавать жизнь в разных проявлениях, пробовать ее на вкус (в разумных пределах, разумеется). Особенно в молодости, когда ты полон сил, энергии, желаний. Потому разговоры об унылых буднях из уст молодых людей меня удивляют.
– В томской драме есть знаменитая гримерка, в которой уже четыре десятка лет мирно сосуществуют три ведущие артистки – Валентина Бекетова, Ольга Мальцева, Людмила Попыванова. Как вам удалось сохранить теплые отношения, ведь искренняя дружба в театре – явление редкое. Или поводов для размолвок не было?
– За такое безумное количество лет все было. Даже в семье время от времени случаются проблемы. Что уж говорить про театр, где есть место и ревности, и зависти, и соперничеству. А уж если вы три актрисы одного возраста, по определению претендентки на одну роль, непонимания не избежать. Но нам всегда хватало ума не доводить шероховатости в отношениях до разрыва. Даже если конфликты возникали, мы забывали о них и шли дальше, как будто ничего не было. Для меня Люся и Ольга – близкие люди: мы переживаем друг за друга, за детей, за театр, нас связывают многолетние дружеские отношения.
– Актрисы нередко говорят о том, что театр съедает много жизненного времени. Потому они «немного мамы, немного артистки, немного жены». Или это вопрос исключительно самоорганизации: если захочешь – успеешь все?
– Это вопрос уважения к людям, которые находятся рядом с тобой. То, что дети артистов растут за кулисами, факт. По-другому и быть не может. Дети как воздух – неотъемлемая часть твоего существования: где ты, там и они. У нас с Ольгой Мальцевой даже был «материнский подряд». Когда я выходила на сцену, она нянчилась в гримерке с моей Катей, когда Оля играла спектакль, я сидела с ее близнецами Митей и Алешей. Сложнее, если оба супруга актеры. Тогда нужно проявлять большую мудрость, чтобы не допустить профессиональной ревности.
Люди со стороны часто идеализируют театр. А это на самом деле страшное заведение. Показательный случай был на приеме у невропатолога. Доктор мне по коленке молоточком двинул, у меня нога взлетела. Он говорит: «Что же вы такая нервная? Вы же работаете в таком прекрасном месте, почти что в храме!» Я, разумеется, не стала разочаровывать доктора рассказами о том, какой «прекрасный» мир театра.
– Кому, на ваш взгляд, легче в театре – мужчинам или женщинам?
– В мужских штанах я не была, сказать наверняка не могу. Но на мужчин в театре всегда повышенный спрос. Для них и ролей в мировой драматургии больше. Хотя это вовсе не значит, что они талантливее. Женщине, по-моему, вообще по жизни сложнее. Это не беда – данность. Она зажата со всех сторон: домашними делами, работой, еще не дай бог творчество какое приключилось. И надо все успеть. Приходится бежать в два раза быстрее мужчин. А если женщина прет вперед как танк, она уже вроде бы уже и не женщина…
– Какое из недавних событий культурной жизни Томска показалось вам любопытным?
– Читка в режиме онлайн романа «Мастер и Маргарита». Во-первых, потому что такие литературные марафоны – мировой тренд. Во-вторых, благодаря акции я открыла для себя это произведение. В отличие от многих не могу назвать себя фанатом «Мастера и Маргариты». Но когда мы с ребятами из ЛХТ по просьбе организаторов акции инсценировали три кусочка из романа, я посмотрела на него другими глазами. Оказывается, и сюжет занятный, и язык хорош, и текст глубокий.
– Возможно, 2018 год станет Годом театра в России. Какая помощь со стороны государства нужна театрам, чтобы облегчить их жизнь?
– Одно могу сказать: «Помогите материально» (улыбается). У театра нет денег для полноценного творческого процесса. Мы не можем пригласить на постановку художника, сделать декорации, какие нам нужны. Наш театр почти перестал ездить на гастроли. Для любого творческого коллектива это катастрофа. Так что просто помогите финансово, а люди в театре сами проблемы разгребут, придумают, что поставить, найдут режиссера.
– С какими чувствами вы завершаете театральный сезон?
– К сожалению, наш театр переживает не лучшие времена. В этом сезоне мы не выпустили ни одной премьеры на основной сцене. Когда такое было? Во многом это связано с отсутствием главного режиссера. Надеюсь, что он у нас скоро появится, и начнутся позитивные перемены. Даже не надеюсь – знаю. Потому что за пасмурным днем всегда наступает солнечный. Главное – не отчаиваться. Поэтому будем жить, и все у нас будет хорошо.
Справка «ТН»
Валентина Бекетова родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирское театральное училище (сейчас Новосибирский государственный театральный институт). В Томском областном театре драмы работает с 1972 года. Среди ее работ – заглавная роль в трагедии «Васса и другие», Валентина в спектакле «Валентин и Валентина», Она в «Лаборатории любви», Голда в «Поминальной молитве», Кристина Мильман в «Тустеп на фоне чемоданов», Ида в лирической комедии «Женщины на закате в отсутствие мужей», Розовая дама в спектакле «Оскар и Розовая дама», Офелия в «Анне в тропиках», Бельгийская бабушка в «Амели». Преподавала сценическую речь на актерском курсе Екатеринбурского государственного театрального института при томской драме. 31 год руководит Литературно-художественным театром ТГУ. Неоднократно отмечалась премиями фестивалей различных уровней.
Замужем за артистом томской драмы Вячеславом Радионовым. Есть дочь, двое внуков.











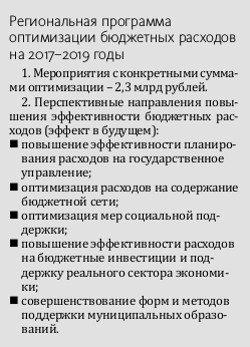 – В обрезании социальных льгот, например.
– В обрезании социальных льгот, например.
 Эту возможность томичке подарила победа во втором сезоне кинопроекта CAST. Масштабный социальный проект, в рамках которого проходят конкурсы «Киноактер» и «Киносценарист», создан для развития кинематографа в регионах России и продвижениях новых талантов.
Эту возможность томичке подарила победа во втором сезоне кинопроекта CAST. Масштабный социальный проект, в рамках которого проходят конкурсы «Киноактер» и «Киносценарист», создан для развития кинематографа в регионах России и продвижениях новых талантов.
 …Планы на ближайшую жизнь, наполненную увлекательной учебой, кипучей деятельностью в славных рядах стройтрядовцев и развеселых посиделок с одногруппниками, рухнули для томича Александра Якимова в одночасье. 1 апреля его, студента железнодорожного техникума, забрали в армию. Как раз в тот сладкий момент, когда стресс, сопровождавший переезд из родной деревни в шумный незнакомый город, сменился эйфорией от новых впечатлений и радостных перспектив.
…Планы на ближайшую жизнь, наполненную увлекательной учебой, кипучей деятельностью в славных рядах стройтрядовцев и развеселых посиделок с одногруппниками, рухнули для томича Александра Якимова в одночасье. 1 апреля его, студента железнодорожного техникума, забрали в армию. Как раз в тот сладкий момент, когда стресс, сопровождавший переезд из родной деревни в шумный незнакомый город, сменился эйфорией от новых впечатлений и радостных перспектив. 40-50 человек. Повезло, что располагалась она на равнине – там тепло. Некоторые точки связи были разбросаны в горах, где снег не таял круглый год. На этом везение заканчивалось.
40-50 человек. Повезло, что располагалась она на равнине – там тепло. Некоторые точки связи были разбросаны в горах, где снег не таял круглый год. На этом везение заканчивалось.