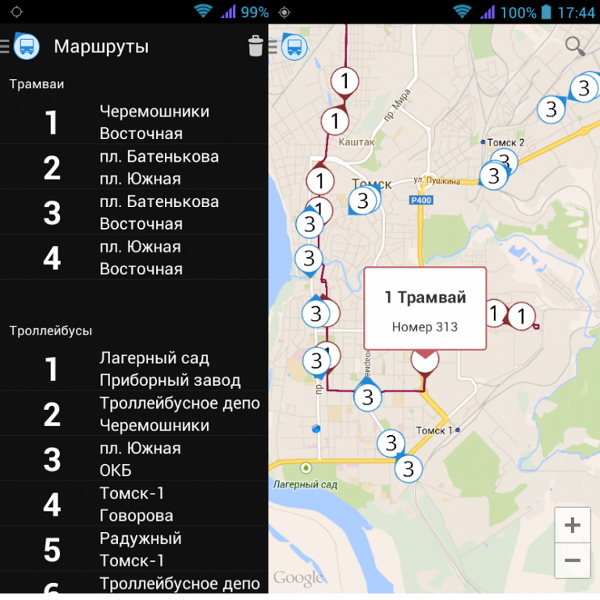Новый спец-проект «Томских новостей» — об эволюции бизнесменов, которые меняют себя и меняют город.
На простой, казалось бы, вопрос «Вспомните себя начинающим предпринимателем» основатель компании «Мир суши» Роман Казаков надолго задумывается. А потом объясняет паузу: «Вместе с кадровым агентством «Вы + Мы» мы разрабатывали программу для глубокого тестирования персонала. И долго спорили в вопросе: бизнесмен и предприниматель – это одно и то же или нет?» Предпринимателем он стал в 19 лет, бизнесменом – после 25. Принципиальную разницу между ними объясняет так: «Бизнесмена помимо отличных управленческих навыков отличает умение не подстраиваться под существующую ситуацию, а глобально менять ее под себя». Например, сейчас Роман активно занимается возрождением фермерского производства и – шире – возрождением деревни. Уже набил кучу шишек в этих попытках, но выводы из каждой сделаны.
Отжег
– Есть четыре уровня управления. Первый условно называется «исполнитель», человек этого уровня решает задачи «и, и»: возьми лопату и иди копай яму. Второй уровень – бригадир с задачами уровня «или»: возьми или лопату, или кирку и иди копай яму. Он принимает решение сам из четко заданных регламентов. Третий уровень – это люди, которые принимают решения «если, то…»: если пойдет дождь, ты берешь лопату, если снег – кирку, и идешь копать яму. Обычно это уровень руководителей небольших филиалов. Руководитель четвертого уровня решает задачи «если нет, то…»: когда нет сценариев, а яму выкопать надо. Это уровень генеральных директоров, топ-менеджеров. Наконец, особняком стоит предприниматель – человек, который помимо всех этих качеств обладает стратегическим видением. У него сильно развита интуиция, стратегическое мышление и т.д. Это уровень собственника.
– Можете вспомнить себя, когда вы начинали свой бизнес?
– Предпринимательством, когда работаешь сам на себя, я начал заниматься лет с 19. На тот момент стояла одна задача: наесться. Главным был вопрос денег, личной безопасности, обеспечения семьи, независимости от родителей. Мне было все равно, чем заниматься, лишь бы с максимально быстрым эффектом. Так все делали в 1990-х годах: покупали какие-нибудь сникерсы в Москве и продавали в 10 раз дороже в Томске. Мой первый проект – точка хот-дога – оказался неуспешным. Потом я пару лет работал наемным сотрудником – менеджером по рекламе. А в 21 год мне попался выгодный для челночного бизнеса товар – зажигалки. Сначала возил их из Алма-Аты, потом из Китая.
– «Мир суши» создавался на деньги, заработанные в тот период?
– Не совсем. Тогда я успел заработать себе на квартиру и наивно думал, что бизнес будет развиваться по экспоненте, ведь все просто: больше заработал – больше вложил – больше продал. И когда все было, как казалось, в шоколаде, таможня забрала весь груз, который я вез через границу. И все мои накопления остались там. Судебный процесс длился год, свои права я отстоял, но все это время я платил бешеные проценты под заемные средства (6% в месяц) и отдал все, что у меня было, и еще больше. Это очень тяжелое состояние, когда все, к чему ты шел на протяжении трех лет, перестало существовать…
– Наверняка потом вы пытались найти объяснение этому случаю. Считали его знаком судьбы?
– Сейчас, понимая, как работает вселенная, я уверен: это действительно была судьба. Каждого человека «ведут». И, получая знаки, ты можешь понять: чего конкретно от тебя хотят добиться, куда следует идти. В принципе, можно было остановить свою карьеру на Китае, и у меня довольно много знакомых, которые по такой схеме работают до сих пор. Да, себя они обеспечивают. Но остаются замкнутыми в своем узком мирке.
– Но большинство людей это устраивает…
– А человек такое существо, что всегда стремится к комфорту, и самое страшное – выйти из этой зоны. Так что «Бойся комфорта» – это мой девиз.
Томск привередливый
– В 2004 году, когда мне было 25 лет и я более-менее расквитался с «китайскими» долгами, на глаза попалась модель бизнеса по доставке суши – у знакомых ребят была такая компания в Новосибирске. Всего за полгода они начали зарабатывать чуть меньше того, что я зарабатывал на зажигалках. И я подумал: почему бы не попробовать в Томске? Схема понятна: покупай сырье, производи суши, доставляй на дом. Взял кредит и открыл «Мир суши».
– Не страшно было еще раз начинать бизнес? Или для вас не существует слова «страшно»?
– Для меня не существует слова «невозможно». Если я чего-то очень сильно хочу, не вижу причин, почему этого нельзя сделать. Нужно просто придумать, как. Другой вопрос, какой ценой, но решение есть всегда. Поэтому страшно не было. С момента появления идеи до открытия «Мира суши» прошло, наверное, месяцев пять. Напечатал буклеты, раздал по знакомым, сидел и ждал звонков. Я думал, что Томск повторит успех новосибирцев, но если у них уже через полгода была выручка около 800 тыс. в месяц, то у меня она не превышала 300 тыс. Мой личный доход был 10–15 тыс. рублей, а должно было быть 150… Тогда начал думать, как сделать компанию узнаваемой, пошла первая реклама. И спустя еще полгода мы вышли на выручку по Томску около полумиллиона. Потом знакомый предложил: давай в Красноярске откроем что-то подобное (у меня самого денег на экспансию не было). Мы запустили Красноярск, и он сразу же показал результаты Новосибирска по выручке.
Через два года закрыл все свои кредиты, выкупил обратно квартиру, которую продал из-за долгов, и, по большому счету, раз и навсегда решил все свои финансовые проблемы. Но видите, какая штука… Когда ты понимаешь, что можешь позволить себе все, что хочешь, эта потребность исчезает.
– То есть это не сказки для бедных, когда говорят о пресыщении деньгами богатых?
– Я тоже долго не понимал, что в жизни могут быть другие ценности кроме стандартных: семья, карьера, финансовый успех. У некоторых предпринимателей есть игрушка: из маленького бизнеса сделать большой, занять большую территорию. Это как в песочнице размером машинок мериться! Меня это нисколько не вдохновляло. Ну, открыли Красноярск, через полгода Тюмень, потом Иркутск… Мы креативно подходили к бизнесу, у нас все получалось, и эту модель можно было успешно штамповать хоть в 50 городах! Но смысл?.. Году в 2009-м я окончательно осознал, что мне это не интересно, и стал постепенно передавать управление компании другим людям. Сначала стал появляться не пять дней в неделю по 8–10 часов, как обычно, а три дня в неделю. Потом два, один… И в итоге довел количество визитов в офис до одного в месяц.
Система паразитов
– Чем занимался в свободное время?
– Я открыл для себя, что интересно делать что-то для других, преобразовывать город социальными проектами. Создал фонд «Мир моей мечты», первым нашим проектом стала бесплатная утренняя зарядка с Вячеславом Овсянниковым. Я сам каждый день ходил на йогу и понимал, что это дает большой заряд сил. Почему бы не показать это другим людям?.. Затем был проект бесплатной дворовой площадки. Сначала я попробовал сделать ее в своем дворе с привлечением всех жителей дома, потом поставили еще площадок пять в других местах. Еще у нас был «Дизайнерский подъезд». И проект «Прибери свою планету» – объединившись с другими бизнесменами, чистили «Буревестник» и Михайловскую рощу, где тогда была сплошная помойка. За два года изменения стали кардинальными, и это большая заслуга команды, которая работала в проекте.
– Получили в итоге те эмоции, которые искали от благотворительной деятельности?
– Первый год был драйв – тратил туда все свои ресурсы, всю свою энергию.
– Почему тогда вы вышли из фонда?
– Спустя пару лет я уяснил, что все проекты движутся на моей силе. Пока ты даешь свои ресурсы, организационные и финансовые, проект работает, но чуть отходишь в сторону – и сразу все глохнет. Я хотел запустить систему, которая сама бы себя развивала, но вместо этого породил систему паразитическую: сколько дал – столько потребили, не производя никакой добавочной стоимости. Так нельзя. И к 2013 году я из фонда вышел. По прошествии времени я пришел к пониманию: любое изменение сознания человека требует огромного количества времени – не месяц-полгода-год, а ГОДЫ, и если я хотел увидеть результаты, нужно было брать гораздо меньше проектов и планомерно ими заниматься – 5–10 лет. Второй вывод, который я сделал: очень важно, кого ты берешь в команду. Если человек не готов обмениваться энергией, а готов только брать, то движения вперед не будет. Поэтому последние два года я строил систему поиска таких людей, отрабатывая ее на «Мире суши». Наша система тестирования – как раз из этой серии.
«Иди и делай»
– Когда я понял, что социальные проекты у меня не удались и я не хочу заниматься ими в ближайшее время, возник вопрос: что делать дальше? И я решил вплотную заняться бизнес-проектом, который лично для меня был важен, – компанией по доставке деревенских продуктов «Ежи». В начале ее жизни (в 2011 году) я выступал лишь венчурным инвестором: была идея, был человек, который ею горел, а я просто помог ему финансово и организационно. Но человек не справился – он по духу был не бизнесменом, а предпринимателем, мог работать только на себя, но не управлять большим детищем. И через два года после запуска «Ежи» рухнули. Я их подхватил и на этот раз возглавил сам.
– Зачем?
– Есть один мотиватор, который лично мне позволяет никогда не сдаваться. Ты думаешь: «Ну, хорошо. Бросишь проект. Но ведь ты хотел есть натуральные продукты, а их не появилось. Ты хотел жить на земле, но деревня так и не возродилась». Оставшись в стороне, ты ни одну свою проблему не решаешь. Так что иди и делай. 1 мая 2013 года произошел рестарт «Ежей».
– Что-то я не понимаю, каким образом вы с помощью «Ежей» хотели возродить деревню?
– Мне казалось, нужно просто создать условия, чтобы семьи, живущие в деревне, могли зарабатывать приличные деньги натуральным хозяйством, а не уезжать для этого в город. Раздумывая над тем, почему деревня бедная, я решил: наверное, потому, что фермеры не умеют продавать. Значит, нужно создать сбытовую компанию, которая бы реализовывала на рынке города продукцию с точки зрения правильного бизнес-подхода.
– Почему тогда «Ежи» не выжили в своем первом варианте – доставки деревенских продуктов на дом?
– Причин было много, одна из которых, как я говорил выше, управленческая. Так, через какое-то время выяснилось, что фермеры могут работать только на ярмарку выходного дня: неделю расслабляются, а ночь перед ярмаркой напрягаются, производят немного молока и сыра – сколько получилось и того качества, какого получилось. А там уж как повезет – купят, не купят… Как только мы их ни стимулировали, чтобы они начали работать ежедневно и системно! И морально, и материально. И обучали их, и давали технологов. Потом, отчаявшись, нашли фермера, который лучше всех работал, и на базе его хозяйства в районе деревни Березкино в сентябре 2013 года построили молочный цех на 100 «квадратов». Ровно две недели назад я перевез оборудование в другое место, забрав его в собственное управление…
– Что не получилось на этот раз?
– В цеху мы планировали переработку 1,5 тыс. тонн молока в сутки. Это могло бы обеспечить семью зарплатой в 150–200 тыс. рублей ежемесячно – тем самым минимумом, который позволил бы деревенским достойно жить. Пока семья того фермера (муж, жена и старший сын) перерабатывали 300 литров молока, все было супер. Проблемы начались литрах на 800, когда потребовался дополнительный наемный персонал 4–5 человек. На качество продукции влияют нескольких факторов. Первый – это соблюдение элементарных санитарных норм. Это ежедневный системный труд по содержанию чистоты. Если тебе нужно протирать помещение два раза в день с определенными растворами, то это нужно делать каждый день два раза, а не через день или раз в день. Второй фактор – чем больше объем молока, тем больше риски. Вероятность того, что у кого-то из поставщиков сырья оно прокисшее, вырастает, а это ведь попадает в один котел и скисает все молоко. Чтобы железно поддерживать регламенты качества, нужно на входе проверять ВСЕ молоко. Не выборочно, а все! Но наемные сотрудники этого не делают: или настроения нет, или интуиция им подсказывает, что молоко не кислое, или еще что-то…
– А разве они не понимают, что их косяки отражаются на зарплате?
– Меня самого это удивляло! Спустя время я понимаю, что деревенский менталитет накладывает отпечаток в том числе на восприятие денег. Нет связки с тем, что если сегодня плохое молоко, то это влияет на конечную сумму доходов. И когда в итоге фермер получает в два раза меньше, чем ожидал, в глазах неподдельное изумление: почему? Он же все сделал! Он произвел тонну молока! А то, что половина из него скисла… Ну, бывает…
– Куда вы сейчас перевезли производство?
– Мы нашли хорошее помещение на окраине города, я взял хорошего технолога, и он находится в лично моем управлении. Косячит – лишается премии. Два раза косячит – увольняется. Сейчас мы перерабатываем 1,2 тонны молока. Когда открыли пятую стационарную точку продаж (этот формат стал основным вместо доставки), проект стал безубыточным. Если первые «Ежи» максимально выходили примерно на 600 покупок в месяц, а после рестарта в 2013 году было 1,5 тыс. покупок, то сейчас нашу продукцию покупают 18 тыс. человек ежемесячно. Оборот вырос до 4 млн в месяц. Через две недели открываем в «Изумрудном городе» шестую точку.
Крест лидера
– Из опыта прошлых лет я понял две важные вещи. Первое – не надо больше никому помогать. Второе – не нужно тащить деревенских фермеров, если они к этому не готовы. Теперь я хочу сделать ставку на дауншифтеров – городских людей, которые переезжают в деревню. С одним из таких парней мы через несколько недель запускаем пилотную яичную ферму. Десять лет назад он был известным в Томске рок-музыкантом, занимался продажами. В один момент понял, как ему надоел город, все продал и переехал в деревню. Купил дом в Малиновке. Сейчас у него 10 коров, курочки, «Паджеро». Довольный, пять детей, приехал ко мне: давайте, говорит, построим ферму вместе.
– Прямо так сам взял и приехал?
– Мы дали объявление на Авито.ру, что ищем партнеров, которые готовы под гарантированный сбыт построить яичную ферму – «Ежам» не хватает яиц. Причем я четко сказал: финансово никому не помогаю, вы строите ферму за свои деньги. Мы же готовы предложить правильную модель бизнеса, обучить вас, дать хорошего технолога и предоставить гарантию сбыта. И людям это интересно – нас засыпали предложениями! Когда мы откроем пилотную ферму в Малиновке и опишем модель (для того есть специальный человек, бизнес-инженер), то запустим школу фермерства. Желающих пройти ее будем тестировать с помощью корпоративной программы «Мира суши». Самых лучших – обучать (не бесплатно, но по себестоимости) эффективному менеджменту, бухгалтерии, логистике, финансам. По окончании человек сдает экзамен, получает проработанный бизнес-проект и идет его делать, но за свой счет. Думаю, первая группа начнет обучение уже этой осенью.
– Сколько времени вы лично сейчас уделяете бизнесу?
– С февраля этого года я вернулся в управление «Миром суши» – кризис на фоне высокой конкуренции ощутимо ударил по компании. Четыре месяца вообще не вылезал отсюда, сейчас трачу примерно два дня в неделю.
– Не напрягает, что все по-прежнему завязано на вас?
– В этом вопросе тоже произошла переоценка ценностей. Я романтик по натуре, и когда-то мне грезилась идея круглого стола короля Артура, все сидящие за которым равны. Два года я экспериментировал и создавал самоуправляемую модель, когда самодостаточные люди собираются, принимают совместные стратегические решения и компания развивается. Но теперь я понимаю: это сказка. Кстати, мне сильно помог в этом понимании тренинг Радислава Гандапаса «Крест лидера». До него я считал, что подчинение – это некое насилие: подчиненный вынужденно ломает себя, чтобы подстраиваться под систему. Мне казалось это неправильным, и поэтому я мечтал о равноправии. А Гандапас показал это немножко под другим углом: в мире, во вселенной все построено на принципе иерархии, и всегда есть те, кто процесс возглавляет. Группа – это, по сути, добровольная договоренность людей, что кто-то берет на себя лидерскую функцию и большую ответственность и за это обладает большими ресурсами. Если раньше меня волновало, что все завязано на меня, то теперь – нет. Просто развиваюсь сам и позволяю развиваться сотрудникам.
– Но вас-то они не сместят, значит, рано или поздно упрутся в карьерный потолок…
– Тогда человек уходит в другую компанию или открывает собственный бизнес. Десять лет назад «Мир суши» был первым в каждом из пяти городов, где открывались его филиалы. А на текущий момент, например, в Томске работает около 60 доставок! 20–30% их основателей – это выходцы из моей компании: бывшие повара, администраторы, управляющие. Это обычные наемные сотрудники, которые доросли до собственного бизнеса, и среди них есть очень удачные примеры. Город, мне кажется, от этого только выигрывает. А поменять Томск в лучшую сторону – это одна из моих глобальных задач на будущее.
«В Красноярске другой менталитет. Томск вообще очень сложный. Могу точно сказать: если ты смог заявить о себе в Томске и твой бизнес стал здесь успешным, то сможешь легко копировать его по всей России. Томичи долго думают, долго принимают решение, пускают в свои. Но если уж полюбили, значит, проект действительно что-то из себя представляет».
«Я тратил на фонд около 500 тысяч в месяц. Например, часть детских площадок построил сам, потому что мне нужно было создать модель. Я ведь понимал: бизнесмены не дают денег на социальные проекты не потому, что жалко, а потому, что не верят в результат. А если прийти и сказать: «Вот вчера я поставил площадку, у меня был такой-то бюджет, столько-то дали жители, столько-то власть, давай теперь у тебя во дворе построим с твоей помощью», это звучит убедительно. Процентов 90 соглашались».