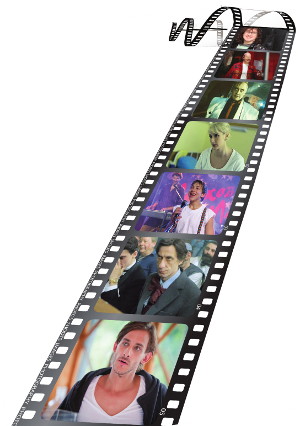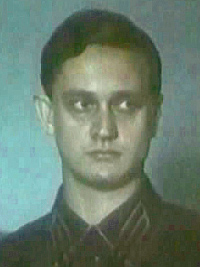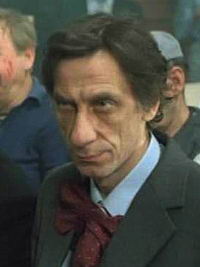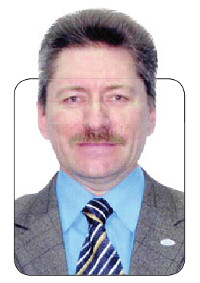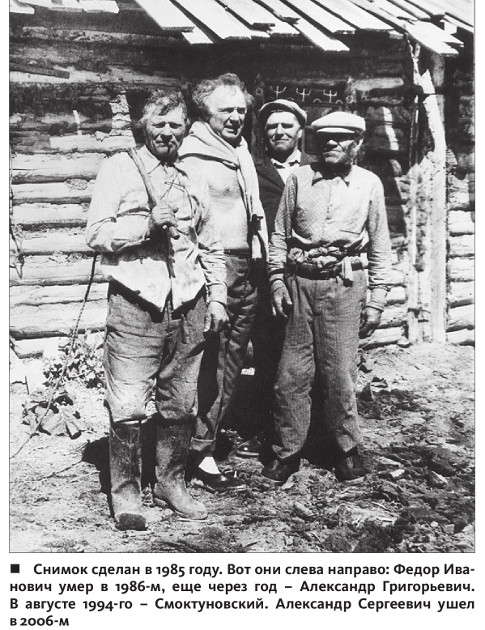От ресторана «Графт» до факультета инновационных технологий в ТУСУРе. От магазина бытовой техники до школы менеджеров продаж инновационной продукции. Путь Юрия Лирмака полон парадоксов, с годами в нем не менялось лишь одно – страсть к английскому языку. Какой должна быть идеальная система обучения английскому? Почему он конфликтовал с представителями официального образования на этой почве? Почему он потерял развлекательный бизнес и как сейчас хочет коммерциализировать свое совершенное знание языка? Об этом и многом другом Юрий Лирмак рассказал журналистам «ТН».
Бизнесмен выздоравливающий
– Представлять вас, Юрий Михайлович, журналистам, наверное, не надо… Хотя нет, надо. Уследить за вами трудно: то вы ученый, то бизнесмен, то наемный менеджер, то опять бизнесмен. Как сами себя сейчас идентифицируете?
– Я сейчас выздоравливаю. После продолжительной болезни – работы в государственной структуре – я снова начинаю входить в бизнес. Я наигрался в образование, правда в бизнес опять вхожу через образование: ну люблю я английский! Открыл свою языковую школу «Английский пациент», но цель иная – проекты онлайн-обучения английскому языку. Например, создан уникальный сайт, единственный в мире, содержащий тысячу идиом английского языка с видеофрагментами – примерами использования. Без идиом (устойчивых выражений) выучить язык невозможно, и я их пилил 10 лет – из фильмов, новостей, передач. Сколько в мире людей, которые готовы заплатить за пользование этим ресурсом 1 доллар? 2–3 млн человек точно есть. А как мне их найти? Пока не знаю. Ищу тех, кто знает. Поскольку я еще в процессе выздоравливания, требуется время, чтобы вспомнить хватательные инстинкты. Я, к сожалению, сейчас работаю один. Лучше, когда рядом есть человек, который умеет и любит считать деньги…
– Вы разве деньги считать не умеете?
– Не люблю, ненавижу!
– Как в таком случае удалось построить тот, первый бизнес: ресторан, магазин техники и все остальное?
– А всегда в команде были люди, которые возбуждались просто от хруста денег. А я получал кайф, что-то придумывая или решая проблемы. Даже самая ужасная-преужасная, критическая ситуация мне нравилась. Ну, например, когда начальник архитектурного надзора говорит: «Ничего больше, чем сортир, в этом месте ты не построишь», а через два года там стоит ресторан «Графт» – это и есть кайф! Если кто помнит, до ресторана на этом месте был мерзкий деревянный дом и противопожарная кирпичная стена. Я снес дом, оставил стену, но одна из жилиц соседнего дома мне сказала: «Будешь строить в шести метрах от моих окон» (ее окна сто лет смотрели в стену). Я начал придумывать всякие фокусы, чтобы придать стене исторический статус и оставить ее там навечно, пристроив к ней ресторан. Например, инсценировал находку старинного клада: пошел в антикварный магазин, за видеоплеер выменял древнее барахло, закопал его в котловане под стеной, затем оно было «найдено» экскаваторщиком и описано милицией. Какие-то умники что-то бубнили про купеческое наследие. Сюжет был показан по двум каналам. Это было весело! Кстати, войну с той дамой я проиграл: пришлось ей материально компенсировать неудобства от нового строительства. Но компромисс – это тоже своего рода удовольствие.
Язык мой – друг мой
– Почему вы ушли из торгового и развлекательного бизнеса? Не интересно стало?
– Да потому что бездарно вел бизнес, вот и все! Кризис 2008 года стал для меня катастрофой. Представьте: все, что у тебя есть, стоит в четыре раза дороже того, что ты должен банку. Но в один день стоимость бизнеса становится равна долговой нагрузке. И ты – никто… Но кризис на самом деле не оправдание: хорошие бизнесмены любые резкие изменения рынка могут обернуть в свою пользу. Но мне на тот момент вообще стало не интересно. Приходит управляющий: «Надо утюг на два доллара в цене убавить!» – «Ну, убавь». Такая тоска! На тот момент, когда я закрыл фирму, я уже три года был занят в ТУСУРе – организовывал языковую подготовку в Институте инноватики.
– Помнится, до ТУСУРа вы участвовали в конкурсе на пост директора ИЯК ТПУ (нынешний ИМОЯК), но проиграли и, более того, имели крупный конфликт с тогдашним ректором Юрием Похолковым на тему преподавания языка в вузе…
– Конфликт был за несколько лет до того, как Юрий Петрович пригласил меня возглавить ИЯК. Когда меня пригласили, все шло гладко, но преподаватели перепугались – пришлось бы язык учить и работать. Я безмерно уважаю Юрия Петровича за постановку задач – он умел делать это смело, глобально. Но решались эти задачи так же, как и везде – с опорой на дутые авторитеты. Проблема в том, что у нас практически нет языковых экспертов в системе образования. Я открыл ужасный закон: вероятность встретить эксперта в языке в непедагогической среде выше, чем в педагогической. Например, у меня есть друг-программист, который говорит: «При мне рот не открывай, ты слово «girl» произнести правильно не можешь!» При этом у него нет загранпаспорта, он ни разу в жизни не был за границей. А знает четыре языка.
– Как же он их выучил?
– Это, во-первых, талант, во-вторых, любопытство. Любопытный человек будет смотреть англоязычные новости, выписывать непонятные слова, выражения, разбирать их. Потому что недостаточно просто выучить правила – язык должен существовать в какой-то среде: новости, сериалы, фильмы, аудиокниги, музыка. Так вот, 99,9% преподавателей иностранного языка почти ничего не поймут из новостной телепередачи. Пройдите по любому университету и спросите первых встречных 100 человек, как прочитать «а/b». Много ли людей вам скажут, что читается это как «а over b»? Да никто! Если не делать революцию, на которую Похолков в свое время не решился, то о каком мировом топ-100 можно говорить, о каких 60 тысячах иностранных студентов в ближайшие годы?
– Что предполагала эта революция?
– Я бы не допускал к преподаванию иностранных языков тех, кто инвестировал свои усилия в корочку кандидата наук, если их темами были, например, особенности селькупского языка или «Евгения Онегина». Такой публики тьма! Вместо этого стимулировал бы в качестве диссертаций серьезные методические разработки, которые нужны и полезны для обучения. Убрал бы такие имитации, как «язык профессиональной коммуникации». Надо учить студентов обычному английскому, тому, что называется general English, а профессионалы и сами потом в словарь заглянуть смогут и найти профессиональные термины. Далее, учат какому-то «бизнес-инглишу», не имея понятия ни о бизнесе, ни об инглише! Я большую часть жизни был деловым человеком и не знаком с «бизнес-рашн»: разговор деловых людей почти ничем не отличается от разговора неделовых.
Когда несколько лет спустя я организовывал в ТУСУРе факультет инновационных технологий, то благодаря руководству вуза нам удалось создать идеальную систему обучения. Оплачивались любые преподаватели – у меня в штате работал американец, англичанин, при желании студенты могли общаться с носителями языка. Не было проблем с оборудованием (важнейший фактор!). У меня был единственный факультет в РФ, где для инженеров читалась новейшая история. Проверьте учебные планы: везде недостоверные сказки про князей и вождей под названием «Отечественная история». А люди должны ориентироваться в современном мире. Был еще один дикий предмет – «Концепции современного естество-знания» – нечто напоминавшее природоведение для взрослых. И это для будущих инженеров! Я заменил этот курс на физику, причем добавил изучение физики еще в течение нескольких семестров. Кому-то это очень нравилось, кто-то от этого ныл: «Мы же ме-е-енеджеры!» Было много интересных, умненьких ребят, но надо было спасти их от этой болезни – дать реальное образование. А подготовка «управленцев» – все это понты и обман, который заканчивается безработицей.
– То есть статус предпринимательского университета это тоже, по вашей терминологии, понты?
– Предпринимательству нельзя научить, можно научить лишь законам и финансам. Качественное базовое образование – прежде всего. Студент должен с какой мыслью просыпаться? Как денег заработать или как решить дифференциальное уравнение, которое он вчера не решил? Наверное, он все-таки должен думать про уравнение. Но как только у тебя проблемы с уравнением, ты сразу вспоминаешь, что ты менеджер. В этом и есть главная деструкция всех этих псевдоуправленческих специальностей. Но вместе с ним университету, конечно, нужно дать возможности для развития предпринимательских компетенций у студентов. И вот для этого у томских вузов уже есть неплохой инструмент – бизнес-инкубаторы. Многие их критикуют, мол, это все имитация, но придите в субботу вечером и посмотрите, в окнах всегда свет горит – люди работают. Это они имитируют деятельность специально для вас?.. Ко мне приезжал мой партнер из МФТИ. Увидев студенческий бизнес-инкубатор ТУСУРа, он отметил: классно, у нас-то все в общагах «на коленке» делается!
Взрыв мозга
– В свое время вы выпустили книгу «Как выжить в Томской области». Расскажите, как проект родился?
– Во-первых, это детское увлечение ядерными войнами. Во-вторых, хотелось научить жизни пристававших ко мне «зеленых». Я всегда им говорил: пока люди не начнут платить за свою безопасность, ничего не будет меняться в экологическом сознании. Для эксперимента открыл фирму «Гражданская оборона», продавал дозиметры с противогазами, но так вяло! Книжку вот издал. «Позеленел» на некоторое время, сошел с ума, признаю…
Но в этой истории меня интересовал еще и политический компонент, связанный с правом населения иметь мнение. Когда атомщики говорят: «Вы – дилетанты, не лезьте к нам», я соглашаюсь: «Да, я дилетант», хотя слово «атом» в названии моей диссертации присутствовало. Но требую ответа на два вопроса. Первый – могу ли я застраховать «ядерные» риски? Когда я спросил это у знакомого руководителя крупной страховой компании, он засмеялся: «За твои деньги любой твой дурацкий каприз!» На следующий день меня встречает и признается: «Оказывается, не имею права…»
Второй вопрос – как выглядят современные российские средства гражданской обороны? Как американские середины прошлого века. Далее, в свое время я провел эксперимент с йодистым калием, запас которого был сделан Центром медицины катастроф на случай ядерного ЧП на СХК. Взял 10 упаковок, сдал их в аптеку под видом торговца медикаментами и получил ответ: бесполезные, опасные, не растворяются, прожигают желудок. Вот все у них так! Я понимаю, что вероятность ядерной аварии ничтожно мала, но цинизм меня просто убивает. Выпускают всякие брошюрки с лебедями на фоне градирен с описанием пользы малых доз радиации…
– Сейчас вы по заданию власти готовите менеджеров продаж инновационной продукции. Не рассматриваете ли декларации о построении экономики знаний как большой обман? Учитывая все то, что вы говорили о томских вузах…
– Если я говорю про недостатки, это не означает, что все вообще ужасно. У нас есть такая патология – постоянно рождаются умные дети, мне кажется, даже в большем количестве, чем в других странах. Но для экономики знаний этого мало. Я в свое время написал Оксане Козловской: если мы будем учить студентов дробям на первом курсе, то никаких инноваций не будет! Я рекомендовал открыть пару физмат-интернатов, собирать умных детей со всей России. Я был приглашен для беседы в Белый дом, и не без моего участия появилась на свет Мариинская физико-техническая школа.
Дальше эти умненькие дети идут получать высшее образование, но пока томские вузы как заминированное поле. Если ты доверишься системе, то никакого образования мирового уровня не получишь. Но если будешь рассматривать вуз как кекс, в котором можно наковырять изюма, то можно стать высококлассным специалистом. Окончив физико-математический факультет ТГПУ, можно стать не только средним учителем сельской школы, но и ученым мирового уровня в области теоретической физики (благодаря тому что рядом есть «изюм» – профессор Бухбиндер и его команда). Все зависит от того, с каким багажом студент пришел из школы, какие гены он несет и сколько труда он готов вложить в свой успех.
Купи меня
– Вторая проблема развития инновационной экономики заключается в том, что компании, в которых реальные инновации есть, испытывают проблемы с выводом их на рынок. Директора каждой из них с руками-ногами оторвут человека, который способен продать их продукт! Например, я как-то проводил экскурсию в ОЭЗ для своих слушателей, и мы общались с резидентом, который продает ПО для гаджетов в Голландию. Я спрашиваю: «В России кто-нибудь его покупает?» – «Нет, здесь мы пока ничего не можем продать, нет специалистов». Такая вот безработица. Я даже придумал определение термина «безработица» – это невозможность найти работника. Есть еще одно: безработица – это невозможность найти высокооплачиваемую работу по специальности рядом с домом. Кадры нужны везде, но люди работать не хотят…
– И как вы учите продавать инновации?
– Обучение нацелено на то, чтобы подготовить продажника с помощью конкретной инновационной компании для этой же компании. Лекции, основанные на реальном опыте, читают представители крупных фирм («ЭлеСи», «Элекард», «Мойе Керамик» и т.д). Они готовы потратить время на человека и затем предложить ему работу. Среди аттестационных заданий – реальные звонки с попыткой продать продукт, письма в организации. Все это оценивается экспертами-лингвистами и маркетологами.
– Как думаете, могли бы вы снова стать олигархом местного уровня, используя ваши знания в области образования?
– Заработать на английском в Томске невозможно, это просто мое хобби и моя слабость. На более простое с точки зрения применения интеллекта я уже не способен, не рискну брать большие кредиты и начинать что-то грандиозное – год выпуска у меня не тот…
Мелкие проекты масштаба «для души» есть. Например в Томске нет профориентации как бизнеса. Вот как девочки попадают в медуниверситет? Как правило, это классические зубрилы начиная со школьной скамьи. Они учатся-учатся, их высоких баллов достаточно, чтобы пройти в мед. Но вдруг на третьем курсе выясняется, что они не хотят быть врачами – на трупы неприятно смотреть!
На том, чтобы у школьников была возможность осознанно выбрать профессию, можно делать большие деньги. Например, я водил дочь (ей 13 лет) в симуляционный центр на базе СибГМУ. Шикарнейшее место, где школьники могут увидеть приближенные к реальным операции, процесс родов и так далее. Моя дочь увидела все это по знакомству, но, думаю, немало родителей готовы платить за такие визиты, платить за то, чтобы их дети правильно выбрали путь и стали счастливыми людьми. Это касается не только медицины. Я также водил дочь к одному из сильнейших томских химиков – в лабораторию каталитических исследований ТГУ. Физиков и математиков можно вычислить уже в пятом классе, а вот химиками, биологами и врачами становятся почему-то тогда, когда уже можно рожать детей…
– Какую вы профессию предпочли бы для дочери?
– Дочери я сразу сказал: или ты получишь естественно-научное образование, или станешь лингвистом. А лингвист – это три языка на хорошем уровне: два европейских и китайский. Тогда можешь никаких химий-физик глубоко не учить – у тебя точно будет работа. Сам я не смог выучить французский и китайский – не понимаю их систему ценностей, а без этого овладеть языком невозможно. Я рад, что дочь не выбрала лингвистику.
справка «тн»
Юрий Лирмак окончил физический факультет ТГУ, кандидат физико-математических наук. В 1990-е годы организовал торговлю электронной техникой из Сингапура (впоследствии – ТЦ «Графт»), создал туристическую фирму «Графт-тур», юридическое агентство «Лэндсервис», ресторан «Графт». Параллельно занимался образовательной деятельностью: в конце 1990-х основал английскую школу «Эксодус», от которой потом отпочковались основные томские языковые школы. В начале 2000-х помог открыть языковой центр в ТГПУ. С 2009 по 2013 год был деканом факультета инновационных технологий ТУСУРа, короткий период руководил отделом международного сотрудничества в СибГМУ. В 2014 году создал английскую школу «Английский пациент». Руководитель школы менеджеров продаж инновационной продукции.
В 1990-е было больше азарта. Представьте: живешь в 1980-е, говоришь всем, что коммунизм XXI век не перешагнет, на что все окружающие крутят у виска, и вдруг ты оказываешься прав. Ты, естественно, должен показать, что в этом мире чего-то стоишь… Первым делом я открыл языковые курсы в центре культуры «Досуг», потом организовал школу «Эксодус», от которой, по сути, откололись почти все частные английские школы Томска. Потом нанятые мной девочки решили работать самостоятельно, даже заплатили тысячу долларов, чтобы отпустил их с миром. Я отпустил. Сейчас, конечно, не отпустил бы – я жалкая, ничтожная личность: две школы лучше одной. А тогда это была капля в море.
Однажды я придумал рекламу для магазина техники: «Мы продаем средства развлечения мужчин и средства облегчения рабского труда женщин». Запустил ее между 23 Февраля и 8 Марта. Это была провокация! Неважно, что тебя ругают, – главное, что тебя помнят.
Пять месяцев я искал себе в школу преподавателей английского. Нашел только двух – тех, которые любят язык, знают его и могут увлечь других. На собеседованиях я люблю спрашивать особенности похоронной терминологии – а я ее любитель, ведь все время кто-нибудь из великих умирает – то Тэтчер, то Чавес, и об этом рассказывают в новостях, и я должен понимать все до мелочей. Приходит однажды на собеседование девушка. До того как спросить ее о таких мелочах и убедиться, что она знает английский, я ее сдуру сначала спросил, кто такой Чавес. Она сказала: «Это президент Кубы». Я сказал: «До свидания».