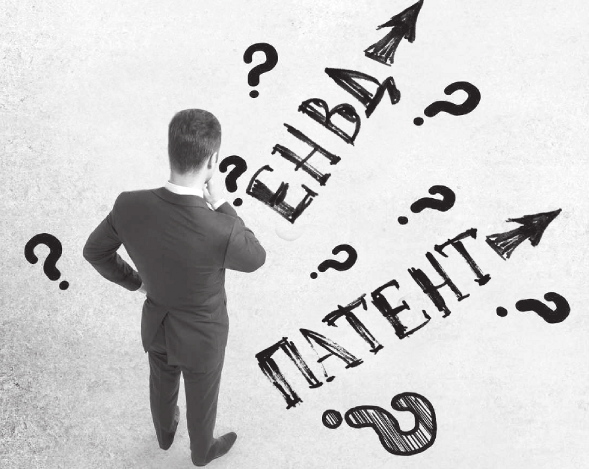Фото: Юрий Цветков

Агония строительного рынка, почти миллиардный долг перед банками, конфликт с Минобороны… Вот лишь малый список событий, которые в 2008–2009 годах пережила компания Шабана Байрамова ОАО «Томлесстрой». «У меня до сих пор нет ответа, почему миллиардные госзаказы получали компании, которые заведомо не имели шансов достроить стратегические для региона объекты, – говорит Байрамов. – Мы за время кризиса не получили от власти ни финансовой, ни административной поддержки. И при этом уцелели».
Топор на шее
– За год до кризиса ваша доля на строительном рынке Томска оценивалась в 7%. Как обстоят дела сейчас?
– Конечно, позиции по объему вводимого жилья в городе мы потеряли, но пятерку лидеров никогда не покидали, что, впрочем, несложно в отсутствие конкурентов. Сейчас у нас два объекта на подходе: на ул. И.?Черных заканчиваем последнюю, третью, очередь (идут отделочные работы), вот-вот сдадим трехподъездный дом на ул. Советской, 90, – осталось благоустроить территорию. Плюс активно строим многоэтажку на ул. Киевской, 1. В прошлом году мы сдали 6 тыс. кв. метров – очень скромно по старым меркам. Но очень хорошо по сравнению с 2009 годом, когда мы вообще ни «квадрата» не сдали. Реалии рынка таковы, что порядка 70–80% жилья строит ТДСК. Остальные объемы распределены между несколькими оставшимися в живых строительными компаниями.
– Сколько компаний осталось в живых?
– До кризиса на рынке было порядка 30 игроков: топ-10 сильнейших, затем те, что поскромнее, и третья десятка – компании с нестабильными объемами. На сегодняшний день с рынка ушли порядка семи-восьми компаний из первой двадцатки, включая такие крупные, как СУ-13, которая сдавала по 20–30 тыс. «квадратов» в год, и «Строймонтаж-М» (15–20 тыс. кв. метров). На плаву из былых лидеров остались, помимо ТДСК, «Континент», ТПСК, «Карьероуправление», «Паводок», «Лидер-Прогресс», ну, и мы, конечно. И еще штук 10–15 мелких, которые строят по одному дому в несколько лет. Жаль, потому что очень хочется иметь сильных соперников: так ты все время в тонусе, бизнес растет быстрее. Но сейчас ситуация другая. Я в прекрасных отношениях с руководством ТДСК – это мои коллеги и партнеры, но факт остается фактом: при отсутствии реальной конкуренции город застраивается однотипным жильем, а горожане остаются без права выбора – и по качеству жилья, и по его цене. При этом можем ли мы отнести панельное домостроение к экономклассу? Наверное, нет, потому что 45–50 тыс. рублей за «квадрат» – это все-таки не бюджетный вариант.
– Можете изложить свою версию, почему рынок стал таким?
– Лоббистские способности одних оказались сильнее, чем у других, вот и все. Напомню, на момент, когда разгорелся кризис, было негласное распоряжение тогда еще премьера Путина для региональных властей: поддерживать строительную отрасль госзаказами. В то время все – подчеркиваю, все! – компании находились в одном стартовом состоянии. Получив колоссальную поддержку в размере 10 млрд рублей на разного рода госзаказы, сложно было поделить их по справедливости, а не вложить их только в лидеров строительства. Может быть, в какой-то степени это было правильно – удержать основного строителя. Если бы он умер, рынок мог взорваться, и один «квадрат» стоил бы уже тысяч сто. Но я считаю несправедливым, что полностью обделили вниманием другие компании, которые тогда занимались крупными промышленными комплексами: «ГазХимСтройИнвест» и «Томлесстрой». Например, мы пытались вытянуть проект кирпичного завода и поэтому находились в первой тройке кандидатов на поддержку. Потому что одно дело – возвести доходный дом, и совсем другое – дать области новое производство, которое сулило дополнительные налоги в казну и рабочие места. По какому тогда принципу отбирались те, кому в итоге доставалась помощь, я оценивать не буду. Но в результате власть получала долгострои – тот же многострадальный перинатальный центр, под который СУ-13 выделили почти 1,5 млрд рублей. Ответственно заявляю, что мы за время кризиса не увидели ни одной государственной копейки.
– А как же дом для военных на Ивана Черных?
– Контракт с Минобороны был, но он сорвался – по вине экс-министра Сердюкова и Васильевой. На момент, когда мы выиграли конкурс Минобороны (осенью 2009 года), на ул. И.?Черных, 66, было свободно 350 квартир из 741. Их мы и предложили военным. Но затем, когда дом был готов, Минобороны просто отказалось выкупать жилье. Почему, не знаю. И при этом еще подало на нас в суд за невыполнение госзаказа. Даже не смешно… Хорошо, судья попалась адекватная (суд идет в Москве). Она задает истцу вопрос: «Вы оплатили этот заказ?» – «Нет». – «А чего вы тогда хотите?..» Единственный плюс ситуации в том, что под контракт с военными банки дали нам кредиты, благодаря которым мы достроили дом.
– У вас лично кредиты есть?
– Можно считать, что нет. Лично я должен банку миллион – ипотека на собственную квартиру. Есть банковская карточка на 450 тыс., на которой «дырка» 440 тыс. Но это мелочи по сравнению с тем, что мы пережили. Представьте ситуацию: контракт с Минобороны должен принести компании порядка 800 млн рублей, а кредитов у нас – на 900 млн. В один «прекрасный» момент мы контракт теряем, и у нас на шее повисает топор на сумму 900 млн… Я каждый день ходил в Божий дом и молился, чтобы сохранить компанию и свою честь. И Бог нас никогда не оставлял. У нас больше нет долгов. Мы достроили все дома и дополнительно ни одного рубля с дольщиков не брали, потому что, во?первых, удалось продать те квартиры, что не забрали военные, во?вторых, каждый дом был на отдельном балансе, и мы не закрывали «дыры» одной стройки деньгами с другой. Конечно, есть стыд, что мы не все объекты сдали вовремя. Но сдали же! Я благодарен своим дольщикам, которые несмотря ни на что верили в меня, благодарен федеральным фискальным органам, которые входили в наше положение, не душили, а ждали. И мы со всеми рассчитались.
– Быть не может, чтобы за эти годы у вас не возникло ни одной проблемы с дольщиками.
– А я и не говорил, что их не было, иначе бы соврал. Среди дольщиков тоже есть разные люди – у кого-то психика не выдерживает, кому-то срочно нужно выдернуть деньги, замороженные в строительстве (все-таки дом на ул. И.?Черных мы строили шесть лет). Но все спорные ситуации урегулировались в моем кабинете. Было два или три судебных разбирательства – люди хотели получить то, что они вложили в долевое строительство, в двукратном размере. Но мы ведь не банк, в который вкладывают деньги под проценты.
Разрешите работать!
– Последний подъезд на Черных мы построили за год (плюс полгода на отделку). Предыдущий подъезд вообще построили за два месяца – надо было досрочно убрать башенный кран. По скорости кирпичной кладки мы можем поспорить с любыми другими технологиями возведения домов. И еще свое слово скажем. Если дадут…
– А кто вам должен «дать»?
– В первую очередь те, кто отвечает за бюрократические процедуры. Например, часто можно услышать восторженные рапорты чиновников: «У нас ускорен процесс получения разрешительной документации до трех дней!» Да, действительно, администрация города теперь выдает разрешение на строительство в течение трех дней. Но сначала ты должен подготовить земельный участок, и вот для этого надо три года ходить по коридорам! Не все земли в учете, не все кадастровые документы соответствуют действительности. Когда начинаешь оформлять подходящий под застройку клочок земли, то легко может оказаться, что ты наступил на чей-то огород, объединил два разных участка и так далее. А прокуратура бдит…
– Как вы считаете, в какую сторону должен развиваться Томск?
– Мне кажется, наиболее удачное направление – от Белого дома в сторону ЛПК. Город не должен быть слишком растянутым – он должен быть компактным и комфортным. Под комфортом я подразумеваю в том числе чистоту: неправильно, когда чистится одна центральная улица, а, например, Черемошники стоят в грязи. Для решения этой проблемы у меня даже есть идея. Сейчас идет самая настоящая битва «Спецавтохозяйства» и частных компаний за право вывоза мусора в густонаселенных районах, потому что многоквартирный дом платит за уборку мусора больше. Никому не интересно ехать в частный сектор, ведь тарифы и там, и там одинаковые… Я считаю, пора вводить дифференцированную плату: если человек живет в центре, за эту привилегию он должен выкладывать, условно говоря, не 16 рублей, а 100. А власть за счет этой повышенной платы лучше убирает «убыточные» Черемошники, исполняя свои социальные функции.
– А власть не может просто выделить больше денег из бюджета на уборку отдаленных районов?
– Ей негде взять дополнительные деньги, потому что расписана каждая копейка: зарплата бюджетникам, содержание детских садиков, больниц и так далее. Сегодня расходная часть бюджета составляет чуть более 13,5 млрд рублей, а налоговых и неналоговых доходов – менее 6,2 млрд. Каждый раз, планируя расходы, мы гадаем: в какой же момент придут недостающие 7 млрд в виде субсидий от области и Федерации?.. Было бы справедливо, если бы мы из тех денег, которые город собирает в виде налогов, нам оставалось не 6, а хотя бы 13 млрд рублей – тот самый необходимый для комфортной жизни города минимум. Тогда мы могли бы думать о развитии, о том, как больше заработать. И, получив дополнительные полмиллиона, могли бы их направить на создание парков, строительство детских садов, ремонт многострадальной ливневки и прочее, прочее.
Словом, это порочная система, когда Федерация сначала забирает у субъекта большую часть денег, а потом дает обратно под проекты, которые сама считает нужными. Например, финансирование развязки на 4-й поликлинике и ул. Балтийской мы получили только потому, что ОЭЗ нуждалась в улучшении транспортной доступности. Не будь у Томска этой зоны, он так и мучился бы в пробках… Хотелось бы самим решать, что для города первоочередно. Например, если бы нам дали несколько миллиардов рублей не на конкретный проект, а просто на транспортные нужды, мы, возможно, для начала привели бы в порядок имеющееся дорожное хозяйство. Я бы лично первым делом сделал ливневки. Если мы воду с дорог не уберем, асфальт долго жить не будет, так и будем его катать, катать, катать… На ул. Сибирской, например, локальные очистные не такие дорогие, но их не сделали. А улицу отремонтировали. Надолго ли?
– Это в любом случае утопия: Федерация не позволит муниципалитетам стать более самостоятельными. Не реальнее ли городу заняться повышением своих доходов? Например, за счет более эффективного администрирования долгов. Год назад мэр Кляйн озвучивал информацию, что дебиторская задолженность по аренде за землю составляет полмиллиарда рублей, из них 300 млн задолжали городу строительные компании, и ваша в том числе…
– Если пустить аудиторские компании анализировать эти долги, то выяснится, что многие из них, с одной стороны, пририсованы, с другой – безнадежны. Например, за СУ-13 числится долг порядка 100 млн рублей. Найдите Замощина и спросите, вернет ли он деньги. Думаю, нет. То же самое с другими крупными должниками.
Что касается «Томлесстроя», то наш долг – 13 млн – я выплатил полностью. Еще 20 млн приписывается СК «РосТом» – это компания, которая строила кирпичный завод и учредителем которой являюсь я. Здесь вообще вещи удивительные. Еще до кризиса мы стали строить кирпичный завод в промзоне на ул. Мостовой, потому что три кирпичных завода в спальных районах города – это экологическое издевательство. Все на свои средства, без какой-либо господдержки. Было 80% готовности завода, когда грянул кризис. Налог на землю нам насчитали на общих основаниях, хотя завод только строится и не приносит прибыли.
С 2009 года завод банкротят, а счетчик на землю продолжает тикать. Ну, обанкротят его, порежут оборудование на металлолом, получат от этого копейки, кому от этого станет легче? И в это же время выделяется 1,2 млрд рублей федеральных бюджетных денег на северную промзону, на бесплатные коммуникации и бесплатную аренду земли, плюс возврат 25% затрат на строительство – приходите строить заводы. Где логика? Почти построенный завод угробим из-за нескольких миллионов в бюджет города, а 1,2 млрд из федерального бюджета потратим, чтобы кто-нибудь пришел и начал строить то же самое. Но что-то очереди из желающих не видно. Это какой-то местечковый, а не государственный подход. Какая разница – городской или федеральный бюджет? Это наши общие деньги, только в разных карманах лежат. Я же сегодня предлагаю: дайте достроить завод, не душите, примените налоговые каникулы, как во всем мире. Появятся сотни рабочих мест. Ведь основное наполнение городского бюджета – это подоходный налог, а не налог с земли. Вот это и будет реальная, а не декларируемая помощь бизнесу от власти.
Мы все не вечны
– Пока у вас было достаточно денег, вы много занимались благотворительностью – устанавливали памятники, спасали деревянные дома…
– Почему же «занимался»? Я до сих пор по мере возможностей помогаю. Глава Советского района может подтвердить: в сложные годы, даже не имея средств полностью выплатить зарплату сотрудникам, я все равно не упускал случая поддержать разные мероприятия – День старшего поколения, детские конкурсы и так далее. Конечно, крупные проекты временно пришлось отложить, законсервировал деревянный дом на ул. Белинского, 23. Защитники деревянного зодчества иногда пытаются вытереть об меня ноги: мол, когда, Байрамов, этот дом сдашь? Но, послушайте, мы единственные в городе, кто выкупил, расселил исторический дом за свой счет и готов заниматься его реставрацией. Я охраняю этот дом пять лет, сейчас начал потихоньку делать. И обязательно доделаю.
– Зачем вам все это надо?
– Я не родился в этом городе, но именно здесь заработал капитал, реализовав свои возможности как бизнесмен. Поэтому считаю, что должен сделать больше, чем все остальные. И так же должны думать все богатые люди. Вот строят они один шикарный дом, второй, третий, обвешивают их произведениями искусства… Но роскошь на тот свет не унесешь! Так не лучше ли обойтись одним домом для себя, любимого, а другой дом построить для тех, кто в нем нуждается? Я очень горжусь тем, что в свое время «Томлесстрой» построил семейный детский дом (он обошелся нам во многие миллионы). Там растут восемь детей, один уже «выпустился», достигнув 18-летия и получив квартиру от государства. Самое главное, мы не сделали из этих детей иждивенцев – они очень самостоятельные и крепко стоят на ногах. И эти люди потом будут ставить за тебя свечки в храмах. Мне скоро будет 49 лет, я уверен, что все в мире не просто так, что нас создал Бог, и, когда мы умрем, за нас кто-то должен помолиться.
– Многие ли бизнесмены осознают свою ответственность перед социумом?
– Не скажу, что их нет совсем. Многие не афишируют благодеяния, и все же сознательности большей части бизнеса не хватает. Знаю директоров строительных компаний, которые могут себе позволить широкие жесты, но делать их не торопятся. Не так давно ко мне обратилась женщина, которая занимается проблемами детей-аутистов. Ей нужно было помочь с помещением под центр реабилитации. У меня на тот момент средств не было, но я знал, что завод «Манотомь» продает подвальное помещение. Позвонил лично директору, попросил: «Сделай хотя бы скидку этой женщине!» Не сделал… А я нашел возможность помочь этому центру.
Я не раз говорил, что в Томске 200 очень богатых людей и еще 2 тыс. – просто состоятельных, с доходом в несколько миллионов долларов. Представьте, как изменился бы Томск, если бы каждый из них отреставрировал хотя бы один деревянный дом или пожертвовал часть своих денег на социальные проблемы…
Справка «ТН»
Родился в 1965 году в Грузинской ССР. Окончил сельскохозяйственный техникум по специальности «бухгалтерский учет», незаконченное высшее образование (Ростовский инженерно-строительный институт) по специальности «инженер-строитель»).
В 1994 году руководил фирмой, поставлявшей в Томск тяжелую строительную технику. С 2004 года – гендиректор ОАО «Томлесстрой».
Член попечительских советов Томского кадетского корпуса, Красной мечети, гимназий № 2, 4, ДЮСШ «Томь». Председатель попечительских советов шахматной академии при Томском шахматном клубе им. Измайлова, Томской федерации по хачи-о-кай карате-до.
Почетный работник лесной отрасли, победитель областного конкурса в номинации «Меценат года», награжден почетным знаком «Строительная слава», орденом «Звезда созидания».
Женат, воспитывает троих детей.
Муниципальные депутаты сегодня не имеют реальных полномочий. Мы сидим, решаем всякие мелочи – вроде тех, куда поставить детскую площадку. Да ведь глава района лучше это знает! А сделать что-то более глобальное, реально влиять на распределение ресурсов мы не в силах. Мы даже ни разу не встречались с областными депутатами, чтобы обсудить проблемы Томска! Обращался к ним несколько раз с идеей сделать совместный круглый стол, но они этот формат не приняли.
2008 и 2009 годы – ужасное время. Предприятие с коллективом 750 человек, которое столько лет успешно работало, уходит в кризис с недостроенным заводом и кредитами на 900 млн рублей. Все счета арестовываются. Надо самостоятельно выжить… Я обращался за помощью куда только можно, во все органы власти. И везде был один ответ: «Если мы тебе не мешаем, значит, мы тебе помогаем». Что ж, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сейчас я благодарен многим чиновникам за то, что хотя бы не создавали нам проблем. Зато теперь я никому не обязан.
Если хочешь быть успешным в жизни, обязательно делай две вещи. Первое – каждый вечер перед сном давай себе отчет: что я сегодня сделал, чтобы считать день удовлетворительным? И второе – всегда планировать завтрашний день. Утром встаешь, загружаешь себя и выполняешь план. А еще очень важно верить в себя. Во время кризиса сотрудники часто спрашивали: «У нас точно все хорошо?» Я всегда отвечал: «Да». Если я сам в себя не верю, мне никто не поверит.