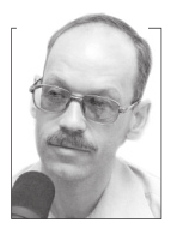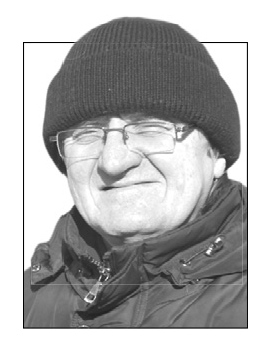Дмитрий Евсейчук, обозреватель «ТН»
Активисты Объединенного народного фронта бьют тревогу: даже в государственных аптеках перестают продаваться дешевые жизненно важные лекарства российского производства. Федеральная антимонопольная служба предложила повысить цены на них на 5 рублей. По мнению ведомства, без этой меры российские производители могут снять дешевые медикаменты с производства, сославшись на нерентабельность. 197 наименований лекарств стоимостью до 50 рублей отечественные компании выпускать уже перестали.
– Проблема с производством и продажей дешевых жизненно важных лекарств не решается уже много лет. Повышать их стоимость хоть на 5, хоть на 10 рублей бессмысленно. На первый взгляд идея правильная: дешевые лекарства можно будет продавать значительно выше себестоимости, и их все равно будут покупать.
Но в реальности дело не в том, что их нерентабельно производить и продавать. А в том, что массовая продажа дешевых лекарств автоматически сокращает объемы реализации дорогих аналогов. Производители и аптеки больше всего зарабатывают на дорогих медикаментах: их маржа значительно больше, чем у дешевых.
Допустим, буду я платить за «Омепразол» не 25–30 рублей, а 40. Казалось бы, аптекам и производителям будет выгодно увеличить объемы его производства и продажи. Однако аналогичный препарат «Омез» той же дозировки стоит в Томске 130–150 рублей. Если себестоимость его производства и выше, чем у «Омепразола», то ненамного. А цена обусловлена раскрученностью бренда, вложениями в рекламу. Так что продавать «Омез» намного выгоднее, чем «Омепразол», пусть и за 40 рублей.
«Омепразол» хотя бы средство довольно известное, спрос на него большой. Его продажа окупается за счет больших объемов. Гораздо хуже ситуация с малоизвестными дешевыми лекарствами, спрос на которые не высок. Именно такие медикаменты и прекращают производить фармацевтические компании.
Почему дорогие лекарства известны больше, чем недорогие? Причина та же: их производители вкладывают большие средства в рекламу бренда. На кого рассчитана эта реклама? На потребителей, на тех, кто болеет. Но зачем больным знать о преимуществах этих медикаментов, если им назначать лекарственные препараты должны врачи? Парадокс: медики заявляют о недопустимости самолечения, а реклама лекарств побуждает людей им заниматься. Мол, выпей наше уникальное средство, и боль в желудке или голове отступит. Фраза «применять по рекомендации врача» ситуацию не спасает, она всего лишь призвана соблюсти формальные требования к рекламе лекарственных препаратов.
Снизить стоимость и повысить конкурентоспособность дешевых препаратов поможет запрет на рекламу лекарств: в цену не будет закладываться брендирование. Одновременно нужно создать эффективную систему информирования граждан о списке дешевых жизненно важных препаратов отечественного производства. Причем с объяснением, какие дорогие лекарства можно ими заменить.