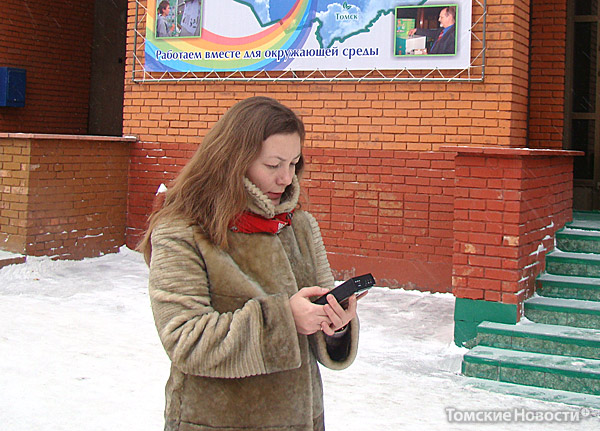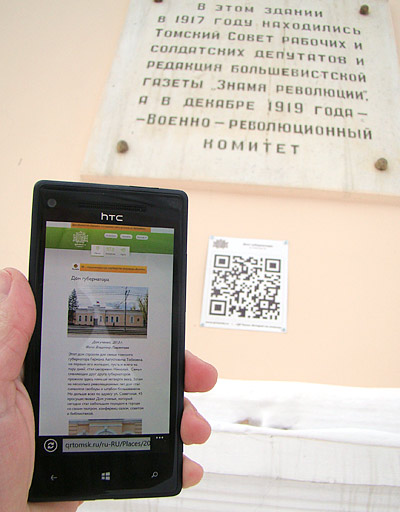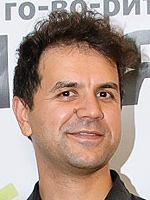Каждый четверг в байк-клубе «Варяг» не протолкнуться: выступает легендарная, как заявлено в анонсах, группа «Какой аккорд?». На самом деле это никакая не группа и уж тем более не легендарная: на сцене стоит свободный микрофон, любой желающий подходит к нему и начинает петь. Поскольку основная аудитория «Варяга» – рок-музыканты, то через секунду к вокалисту присоединяется басист с соседнего столика, после кружки пива подтягивается барабанщик, и люди, еще минуту назад друг с другом не знакомые, начинают импровизировать.
– Идея пользуется такой популярностью, что с каждым четвергом приходит все больше нового народа, – говорит директор «Варяга» Алексей Филиппов.
В среднем у них бывает 400 человек в неделю. Для того чтобы работать хотя бы в ноль, клубу нужно прибавить еще 100. Как переманить их из других питейных заведений? Алексей считает – нужно стать узконишевым проектом. Идея – это единственное, что у него было на старте бизнеса.
Дешево и сердито
…«Варяг» выглядит так, будто из промцеха (а клуб находится в бывшем корпусе завода «Контур») только-только вынесли станки, поставили столы, завесили стены тематическими баннерами – и вуаля – клуб готов, приходите в гости. И в общем это недалеко от истины.
– Денег на то, чтобы наводить марафет, не предвиделось, а открываться надо было срочно: аренда за тысячу квадратов заплачена, – рассказывает Алексей Филиппов. – Думали, как же быстро задекорировать стены, чтобы было дешево и сердито. Решили просто напечатать большие красивые баннеры: весельные корабли, идиллические скандинавские пейзажи… Поскольку первый месяц мы работали только для своих, это всех устраивало. Сейчас заказываем декорации – мачты и паруса, чтобы сделать уютной обеденную зону. На Новый год вот вешали гирлянды, было очень красиво! Отпраздновали тоже шикарно: когда наступила полночь, мы вживую играли и пели российский гимн. Аж мурашки по коже бежали – так пробрало!
За новогоднюю ночь в «Варяге» побывало около 200 человек. Учитывая, что клуб официально открылся только 23 ноября, это отлично.
Рок-н-ролл жив
– Наша аудитория – это те, кто, скажем так, перерос байк-клуб «Засада», – говорит Алексей Филиппов, много лет работавший в «Засаде» арт-директором.
Новый клуб он открыл вместе с другом, с которым они вместе играли в рок-группе «Плеть», Сергеем Григорьевым. Об истории развода с прошлыми работодателями вспоминают с неохотой, но в общих чертах дело обстоит так: «Засада» перестала быть закрытым клубом для байкеров и рокеров. Когда стали пускать всех подряд, пришло много людей с другими взглядами на музыку, на общение – кислотники да гопники, по выражению Алексея. Их «тынц-тынц-тынц» брутальную публику категорически не устраивало… Сейчас на входе в «Варяг» висит красноречивая табличка: «Вход в Adidas, Nike, Puma запрещен».
– Хотелось, чтобы никто не мешал общению близких по духу людей, – резюмирует Алексей. – У нас ведь даже охраны нет, есть костяк заведения, человек 50–60 наших друзей, которые в случае неадекватного поведения человека со стороны укажут ему на дверь. Для особо буйных компаний у нас есть охранная фирма «Правопорядок»: нажал кнопочку – приехали. Слава богу, за три месяца работы у нас не было ни одной драки.
Главная объединяющая идея байк-клуба «Варяг» даже не мотоциклы, как могло бы следовать из названия, а музыка.
– У нас нет и никогда не будет попсы, клубняка, шансона – только рок-н-ролл, – подчеркивает Алексей. – Модные стили быстро отмирают, а рок-н-ролл вечен. Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd – это всегда классика. Кстати, из байк-клуба хотим переименоваться в рок-клуб: байкеры у нас хоть и тусуются, но основной контингент – музыканты.
Бизнес-фан
Еженедельно через байк-клуб проходит около 400 человек, средний возраст – 30 и выше. Каждый посетитель тратит около 500 рублей («На эту сумму можно шикарно посидеть! Например, пол-литра отличного разливного пива Weis Tiger стоит всего 110 рублей», – говорит Алексей). Интересно, что треть выручки приходится на кухню, хотя в питейных заведениях она обычно дает около 10% выручки, остальное – выпивка. За меню в «Варяге» отвечает жена Алексея, Марина.
– Чтобы работать хотя бы в ноль, нам нужно принимать около 500 человек в неделю. Думаю, этого недолго ждать: сарафанное радио работает хорошо (гораздо лучше всех остальных видов рекламы, которые мы потихоньку пробуем), – говорит Филиппов. –Вообще, мы с самого начала были готовы к тому, что любой бар в первый год убыточен. Но все равно немножечко переоценили свои возможности: бизнес-план предполагал, что мы возьмем кредит 2 млн рублей и арендуем помещение 500 «квадратов» и в таком случае через полгода выйдем в плюс.
Реальность, как всегда, оказалась прозаичнее. Во-первых, помещение под клуб пришлось искать полгода. Площади были то слишком маленькими (120–140 кв. м), то слишком дорогими (так, в строящемся комплексе «Изумрудный город» предлагали помещение 500 «квадратов» за 400 тыс. рублей). Во-вторых, в кредит удалось взять только 1,6 млн рублей. Зато место для клуба нашли отличнейшее: рядом улицы Красноармейская и Учебная, куда можно добраться из любой точки города; в двух шагах – студгородок. А главное – площадь 1 000 кв. м, два этажа, своя сауна…
– Плохо здесь одно: аренда 300 тыс. в месяц и коммуналка еще 80, – улыбается Алексей. – А если доживем до лета… – Алексей мечтательно закидывает руки за голову. – Задумок очень много. Например, в ВИП-зале на втором этаже хотим поставить отдельные столы для представителей разных субкультур, и они сами будут оформлять пространство вокруг столов. Байкеры повесят колеса, рули, атрибутику. Страйкболисты изъявили желание принести свое оружие, элементы экипировки. Есть даже один хоккеист, он вообще-то байкер, но увлекается хоккеем и хочет сделать стол для фанатов: с клюшками, шайбами, формой. А мы только за, разным людям должно быть здесь комфортно.
Алексей Филиппов и Сергей Григорьев вместе играли (и играют) в рок-группе «Плеть». Их «одногруппники» – основные помощники в клубе, так, басист Антон Трусов является арт-директором. Именно любовь к музыке они хотят сделать объединяющей идеей для посетителей байк-клуба «Варяг».
«Я взял в руки гитару девять лет назад, – говорит Алексей. – Именно с тех пор, в 33 года, начал жить по-настоящему»
Байк-клуб «Варяг» находится на улице Вершинина, рядом со студгородком, но студенты – нецелевая аудитория.
«Если рассчитывать на студентов как на постоянных клиентов, надо ставить забегаловку с бесплатным Wi-Fi, которая будет работать до 23 часов, пока общага не закрылась, – рассказывает Алексей Филиппов. – Да и ветреные они: сегодня пришел, завтра не пришел…»
Для «своей» аудитории «Варяг» готов стать домом – и в прямом, и переносном смысле. Так, в распоряжении клуба есть две комнаты отдыха, и летом владельцы планируют бесплатно предоставлять ее путешествующим через Томск байкерам. Переговоры о том, чтобы крупные мотоконцерны спонсировали такие места отдыха для байкеров по всей России, ведет известный российский мотопутешественник Сергей Багаев, который зимой заезжал в Томск