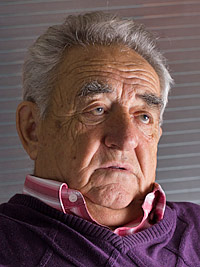Олеся Бутолина, главный редактор информационного интернет-портала «Втомске»
Новость о крушении российского борта в Египте выбила меня из колеи. На днях я сама летела из Шарм-эль-Шейха на чартере из Кемерова, правда, авиакомпанией «Катэкавиа». Но впечатления от перелета были самые негативные. Два часа задержки по причине «дополнительного технического обслуживания», потом часовое ожидание взлета уже на самом борту, который не пускали в небо все прибывающие ремонтники. Первые минуты в воздухе сопровождались странными завываниями двигателей, а потом мы попали в сильную грозу. Самолет метало из стороны в сторону, за окном били молнии, а пассажиры молились и кричали. В какой-то момент самолет словно замер и резко пошел вниз. Так резко, что мы оторвались от своих кресел. Я никогда не кричала в салоне воздушного судна, но тут кричали все. Это был самый жуткий полет в моей жизни. Именно поэтому после новости о падении российского борта в Египте я не могу не думать об этом.
Слишком близки и понятны эмоции тех, кто был там в момент катастрофы. Страшно умирать вот так, крича от ужаса и понимая, что сделать с этим ты ничего не можешь. Искренне соболезную родственникам. Люди не должны так страшно умирать… Нам, к счастью, повезло: после долгой болтанки мы наконец-то взяли ровный курс. Капитан экипажа объявил, что попали в грозу и от нее «уходили как могли». После приземления он сказал, что часто летает в Египет и назад, но с такой серьезной ситуацией он столкнулся впервые. Но относительно технических вопросов никто ничего объяснять не стал – ни про задержку, ни про толпу ремонтников на борту…
Теперь перед перелетом я буду более внимательно относиться к выбору авиакомпании. И, скорее всего, буду брать с собой снотворное. Потому что, когда хочешь спать, страхи отходят на второй план. С другой стороны, если это был теракт (а эта версия сейчас становится одной из основных), то в этой ситуации ничего не зависело от авиакомпании или возраста борта. Только от удачи.